АНАФОРА
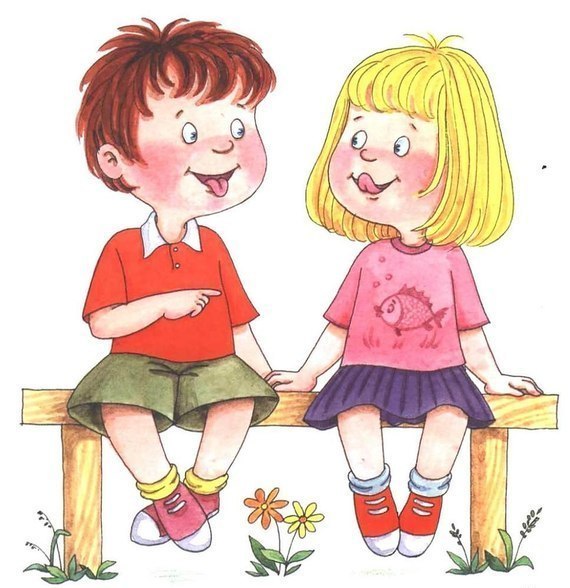
Языковые комплексы из нескольких предложений называются сложносочиненными (Satz–Verbindungen) или сложноподчиненными (Satz–Gefьge) предложениями. Это метафорические обозначения. В мире существует и нечто иное, кроме вязанок дров и каменных строений, с которыми специалисты сравнивают эти единства, стремясь выделить в них тот или иной момент. Исследователь, восприимчивый к этимологии, слова «связь», «вязание» ассоциирует с представлением о петлях и узлах, и факты не противоречат этому. Уже греки называли слова определенного класса sundesmoi (sundesma), и римляне пристегивали при помощи своих conjunctiones два предложения к «ярму»; в комплексе из нескольких предложений фигурируют те же слова, что и в греческом образе оков и латинском — ярма. Создатели слова «Text» имели в виду ткань, хотя мне точно неизвестно, какую именно.
Наконец, последний образ, воскрешаемый мной, — метафора о сочленениях речи, воплощенная в греч. arura, содержащем обозначение сустава. Первоначально все языковые указательные знаки типа анафоры включали обозначения сустава. Это уподобление можно интерпретировать в нашей терминологии следующим образом: в связной речи, так же как и в теле животного и человека, благодаря суставам постоянно происходит определенное смещение, иногда наблюдается разрыв символического поля, и, несмотря на это, смещенные части остаются функционально едиными, поскольку анафорические указательные слова символизируют воссоединение смещенных элементов и более или менее точно сообщают, как оно должно проводиться. По–моему, эта формулировка адекватно и исчерпывающе описывает если и не все явления, то многие из тех, что как раз и интересуют нас в этой книге, естественно, в той мере, в которой образ вообще способен на это.
Совокупность форм комплексов, состоящих из нескольких предложений, если и не рассматривается исчерпывающе в следующем параграфе, то по крайней мере служит его основной темой. Но прежде еще раз рекомендуем обратиться к широко распространенному сравнению, чтобы понять сущность и эффективность анафорического указания. На примере Г. Пауля и Бругмана очевидно, что одни ученые отдали должное анафоре, а другие ее явно недооценили. Цитирую «Принципы» Пауля и подробнее объясняю причины типичного непонимания концепции Бругмана. Пауль пишет:
«Синтаксис сделал значительный шаг в своем развитии, когда указательное местоимение, первоначально служившее лишь для того, чтобы указать на нечто, находящееся непосредственно перед глазами собеседников, приобрело способность устанавливать связь с только что высказанной мыслью. Благодаря этому язык мог выразить грамматическими средствами психологические отношения, заключающиеся в том, что предложение, выступая как нечто самостоятельное, в то же время служит определением к последующему предложению. Указательное местоимение может относиться ко всему предложению в целом или же к одному из его членов» (Paul. Ор. cit., S. 148, курсив мой — К.Б.; русск. перев., с. 176–177). Это — очень меткое замечание, заслуживающее внимания и дальнейшей разработки в теории языка. Но сначала рассмотрим аргументы ученых, оспаривающих своеобразие анафоры. Для того чтобы понять это явление, сравним старую концепцию анафоры, представленную Паулем, с современной (это является темой первой части). Мы приходим к выводу, что в анафоре сам контекст возводится в ранг указательного поля. Присоединим к этому некоторые замечания, в общих чертах освещающие потенции анафоры.
1. Старый и новый взгляд на сущность анафоры, критика Бругмана
Современная недооценка анафоры, известная мне, наиболее последовательно отражена у Бругмана. В его ставшей классикой академической работе об указательных местоимениях в индоевропейских языках говорится следующее:
«Разница между дейксисом и анафорой, обычно отмечаемая при употреблении указательных местоимений, начиная с Аполлония Дискола (ср.: Windisch Curtius' Stud., 2, 251 и сл.), часто считается важнейшим отличием в употреблении этого класса слов и соответственно используется в дефинициях; например, Вундт утверждает, что функция демонстратива состоит в указании на предметы и лица, не нуждающиеся в особом, обычно свойственном им обозначении имени, поскольку они находятся в непосредственной близости или незадолго перед этим упоминались. Эта дифференциация, однако, не касается сути нашего класса местоимений».
«Создается впечатление, что первоначально демонстративы относились только к элементам непосредственного чувственного восприятия. Но тогда говорящий относился ко всему миру своих представлений по аналогии с актуальной наглядностью, и лучше всего так определить сущность класса местоимений, повсеместно используемых в историческое время: это языковое указание на нечто, привлекающее внимание говорящего и требующее от слушателя сразу же заметить предмет. Если впоследствии классифицировать все соответствующие случаи, учитывая различие дейксиса и анафоры, то единственно возможную дифференциацию, согласующуюся с существом дела, нужно производить, судя по тому, является ли то, на что указывается, уже известным, а не становящимся известным только в данной ситуации или оно не обладает этим свойством» (Brugmann. Die Demonstrativpronomina..., S. 13 ff.). Таким образом, речь идет об известном и неизвестном. Бругман посвящает этому вопросу целый параграф. Здесь процитированы первый и последний отрывки, оспариваемое утверждение и позитивное предложение этого выдающегося языковеда сопровождаемые психологическим обоснованием изложенных тезисов. Примеры продемонстрируют, что указание воспринимаемого настоящего плавно переходит (ввиду отсутствия «четких границ») в указание только что воспринятого, еще свежего в памяти; к последнему разряду непосредственно относится анафора.
«Так бывает, когда я говорю кому–либо без указательного жеста, сопровождающего местоимение: Это был господин N, — после того как мимо нас прошел человек; или когда после грома я говорю: Вот это был гром! или прослушав песню: Этой песни я раньше не слышал... Если я, произнося: Это был господин N, — слегка наклоню голову в сторону этого человека, то мой жест придаст местоимению характер наглядного (sinnlichen) дейксиса... А как же обстоит дело с анафорой? Функция демонстратива, например в высказывании Это для меня новость, которое я делаю, услышав некоторое сообщение, точно такая же, как в приведенном выше. Не является основанием для разграничения и тот факт, что местоимение вместо услышанных слов другого человека, относится к высказыванию самого говорящего».
В обоих случаях различные степени резкости дейксиса вновь низводятся до уровня «обычного артикля». «И в этом отношении также иррелевантно, относится ли дейктическое местоимение к предшествующим или последующим словам. Ср.. например: merk dir die (diese) lehre: du muЯt и т.д. и merk dir die lehre: du muЯt и т.д., ich setze den fдll, daЯ и т.д.». На первый взгляд это кажется на редкость убедительным; примеры Бругмана взяты преимущественно из жизни, и они доказывают, что фактически различие между указанием с наклоном головы и без него иррелевантно. Какой смысл заключается в том, что я кивну головой вслед только что прошедшему мимо меня человеку или не сделаю этого, или же в том, что эта песня, о которой дальше пойдет речь, спета на самом деле
или фигурирует только как тема разговора между мной и моим собеседником? Согласимся с Бругманом: совершенно несущественно, имеет ли это место в действительности или лишь в вображении. Но следует добавить, однако, важнейшее ограничение: до тех пор, пока имеется в виду не что иное, как первоначально реальное (sachliche) указание. Тогда действительно нет повода для дифференциации, ведь дейксис к воображаемому основан точно на таких же предпосылках, как и demonstratio ad oculos, и оперирует теми же чувственно воспринимаемыми вспомогательными средствами указания. Но все меняется, если вместо реального указания появляется синтаксическое указание. Дело в том, что различны психологические основы синтаксического и реального указания, горизонт указываемого (достигаемого) там и здесь хотя и пересекаются, но никак не совпадают. Примеры Бругмана почерпнуты из области реального указания, и в замечании Это для меня новость подразумевается, что новизна, согласно Бругману, может ассоциироваться с вещью, присутствующей в моем воображении благодаря речи другого человека, и она полностью параллельна впечатлению новизны, вызванному услышанной песней. В этом случае словечко «это» делает указание реальным, и Бругман оказывается прав.
Что же произойдет, если несколько изменить текст: Это истинно (неправильно, правдоподобно, ложно) и т.д.? Истинной или ложной вещи не существует ни на земле, ни на небе, ни в преисподней. Истинным или ложным может быть только суждение, предложение или в более общем виде репрезентация как таковая[1]. То, на что я указываю в предложении Это истинно, не вещь, а только что высказанное утверждение, фрагмент самой речи, в которую я непосредственно включился. Не имеет значения (как правильно подчеркивает Бругман), звучит ли это утверждение из моих или твоих уст или (можно дополнить) оно произнесено кем–то третьим, кого мы слушаем. Теория вещей не требует ничего иного, кроме признания и некоторого философского удивления по поводу того факта, что иногда актуальная речь, чаще всего касающаяся чего–либо, отличного от нее самой, обращается вспять и становится рефлексивной. Анафора — рефлексивный знак, и в качестве такового она должна так же ясно и резко отделяться от обычного реального указания, как, например, самоубийство от обычного убийства. Бругман лишь доказал, что имеются случаи, которые могут так или иначе интерпретироваться извне, и не более того.
Другой пример иллюстрирует принципиальные различия внутри анафоры. Проверим формулировку Бругмана на достойно тривиальной модели корректного логического силлогизма: «Все люди смертны. Гай — человек. Следовательно, Гай смертен». По банальному определению, такие слова, как «следовательно», «таким образом», «тем самым», функционируют в качестве анафорических указаний. Для того чтобы все сказать, слушателю необходимо соединить оба предшествующих предложения (sunoran, по Аристотелю) и сделать выводы. И как раз в этом (а где же еще?) и содержится обратное ретроспективное и проспективное указание в последовательности предложений. Но в этом случае не стоит торопиться с более точной интерпретацией. Установлено, что ретроспективное указание относится к чему–либо, дающему основания для формулировки выводов, и что для обнаружения этого компонента необходимо вернуться к предыдущим предложениям. Далее, логику известно, что формулировку интересующих его выводов никак не искажают соответствующие изменения терминов в предыдущих предложениях; при этом совершенно несущественно, идет ли речь о людях и Гае или Х и Y, о смерти или любом другом предикате а. Анафорическое указание, употребляясь в логике, одновременно требует формализации репрезентируемой ситуации.
Для того чтобы по крайней мере обозначить дальнейшие различия, которые нельзя упускать из виду в систематизированном учении об анафорическом указании, противопоставим выражения «это неправильно» и «это ложь», которые также должны различаться. Второе может восприниматься как оскорбление и наказываться в судебном порядке, в то время как первое должно оцениваться с точки зрения логической юрисдикции. Однако здесь нецелесообразно обсуждать эти вопросы; эти выражения в любом случае содержат внутреннее, ретроспективное и проспективное указания. Практически невозможно описать конкретные разнообразные способы указания при помощи слишком бедной дихотомии «известное — неизвестное».
Нет, анафору нужно изучать совсем в другом аспекте, а именно: если мы признаем, что предложения без указательного поля свидетельствуют о том, что языковая репрезентация постепенно и в определенных пределах эмансипируется от наглядных опор речевой ситуации и освобождается от знаков, функционирующих как дорожные указатели, и поймем, как протекает этот процесс, то на структуру предложения (Satzgefьge) можно посмотреть под новым углом зрения. Старые указательные знаки не исчезают, а (освободившись от внешнего указания) перенимают служебные функции внутреннего указания. Одним словом: они все еще связаны с контекстом, но их стрелы больше не указывают непосредственно на предметы, находящиеся в поле зрения, а маркируют позиции и фрагменты контекста, где обнаруживается то, что не может быть найдено на месте самих указательных знаков. Анафорические стрелы попадают не непосредственно в вещи, о которых идет речь, а либо в языковые обозначения этих вещей, то есть предложения или части предложения, как совершенно корректно продемонстрировал уже Пауль. Либо это все же вещи, но в том виде, как они восприняты, то есть вещи и ситуации, так или иначе характеризуемые участниками разговора. В будущем следует обратить пристальное внимание на это различие, аналогичное нашим высказываниям о союзе und, соединяющем предложения и связывающем понятия, и найти критерии, отличающие одно от другого чисто грамматически по крайней мере во многих случаях. Можно вообразить монолог анафорических стрел: «Посмотри вперед или назад на поток актуальной речи. Там находится нечто, прямо указывающее на мое место, чтобы можно было связать его с последующим текстом». Или наоборот: «Там располагается то, что следует за мной, замещенное только ради разгрузки предложения».
Тот, кто всю свою жизнь имеет дело с языком, иногда теряет способность удивляться потенциям языка; для него это нечто само
собой разумеющееся. Тогда настало время привлечь для сравнения внеязыковые данные. Здесь достойны внимания более изощренные композиционные средства других механизмов репрезентации. При первом приближении это не может и не должно стать чем–либо большим, нежели взгляд, брошенный с высоты птичьего полета. Во многих местах за пределами языка обнаруживаются зародыши внутренних, так сказать, строительно–технических указательных знаков, однако всюду это только зародыши. В большинстве случаев адекватное соединение гарантируют другие вспомогательные средства. Несмотря на это, похвально и поучительно изучать различные механизмы соединения; тот, кому они известны, многое вновь обнаруживает в языке. Хотя язык вполне обходится и неанафорическими средствами выражения связей, так что анафорическое указание ни в коей мере нельзя считать абсолютно незаменимым, тем не менее оно очень эффективно и во многих отношениях на редкость характерно для языка. Еще раз вспомним о контекстных факторах, постоянно обсуждаемых в аналитических исследованиях (см. с. 158 и сл.). Где и как присоединить к этой системе новый фактор?
2. Словесный ряд в речи и изобразительный ряд в кинематографе
Анафора ближе всего стоит к контекстному фактору «соположения» в списке Пауля. Соображения Пауля, упоминавшиеся выше эксперименты по реконструкции текста Ш. Бюлер, наконец проведенный несколько в другом аспекте анализ метафоры со свойственными ей эффектами перекрывания и абстракции сделали очевидным, что лексические смысловые единства объединяются в предложении на основе связи самих вещей и приспосабливаются друг к другу на основе той же материальной связи; таким образом, прояснился и механизм этого процесса. Анафора — специальное средство языка, служащее для того, чтобы в известной степени исключить случайность подобного соответствия и в дальнейшем соединить определенное с определенным уже после установления синтаксического порядка в символическом поле отдельного предложения. Она позволяет не в ущерб общей перспективе всячески вторгаться в текст и в больших или малых циклах снова извлекать из всего заключенного в них материала то, что уже имело место, или учитывать то, что происходит впервые, связав это с только что названным. В целом исключительное разнообразие средств выражения связей и отношений в значительной степени компенсирует ограничения психофизического закона, гласящего, что в потоке речи слова соединяются друг с другом только по цепочке.
Сравним сначала как бы с перспективы птичьего полета словесный поток человеческой речи со сменой кадров в (немом) кино, чтобы не упустить из виду что–нибудь существенное. Сравнивая язык с произведением художника, Лессинг неоднократно возвращался к Гомеру. Теория языка должна довести до конца то, что было им начато, проводя сравнение на более широкой основе, в частности не забывая о возможностях «живых картин». Задумывался ли кто–нибудь над экранизацией Одиссеи? Если бы этот замысел реализовался, теория языка прояснила бы ряд положений; особенно полезно было бы сравнить структурный анализ обоих механизмов репрезентации. Да будет мне разрешено для подготовки к описанию противопоказанной немому кино анафоры сперва подчеркнуть сходство эпического рассказа и кинотехники.
Фильм более близок эпосу, чем драматической речи в отношении воображаемого дейксиса, ведь в драме отсутствующее должно быть предъявлено, чтобы стать объектом указания и поэтому гора должна приходить к Магомету, в то время как сила эпического повествования состоит в динамической способности Магомета идти к горе. В этом аспекте фильм эпичен по вполне понятным причинам. Начнем с наиболее заметного: в повествовательной эпической киноленте во многих местах встречаются монтажные стыки, едва заметные для технически не искушенного зрителя. При киносъемке перемена точек зрения осуществляется скачкообразно, например скачки с общего плана на крупный или когда (скрытая) кинокамера, перемещаясь, обходит предмет. Это простейшие перенесения, так же мало мешающие при воспроизведении, как и поэтапный обход наблюдателем статуи, города, дома, — обход с паузами для обозрения.
Строго говоря, неизбежные паузы для обозрения, необходимые для того, чтобы перевести взгляд, появляются всюду, где при кажущемся непрерывном видении наш взгляд отклоняется от неподвижного образа или следует за подвижным образом. Большое заблуждение считать, что можно, например, окинуть скользящим взглядом круг или контуры человеческого тела, так же как потрогать предмет ощупывающей рукой, воспринимая их непрерывно. Это никак не следует из психологических предпосылок. Взгляд читающего также прыгает вдоль строк и при движении не замечает печатных знаков. Таким образом, кинооператор лишь технически более искусно использует неизбежное во всех областях.
Первые научные объяснения техники движения человеческого глаза приведены в книге Б. Эрдманна и Р. Доджа[2]. Начиная с этой работы, Додж подробно изучал проблему движения глаз, основываясь на новейших экспериментальных данных. В настоящее время можно утверждать, что на пути от одного пункта фиксации к другому глаза никогда психологически не «ведомы», а «бросаемы». Они совершают баллистическое движение, поэтому в итоге невозможен охват взглядом контуров вещей; ощупывающую же руку, наоборот, «ведут» при движении, так чтобы движение могло тормозиться противоположной игрой мускулов и в любое мгновение ею можно было бы дополнительно манипулировать.
В некоторых уже вышедших на экраны фильмах можно подсчитать скачки кинокамеры и неожиданно обнаружить их большое количество (в среднем около 500). Приблизительно 80–90% относятся к уже названным скачкам перспективы. Мы сопровождаем главное действующее лицо и поэтапно видим места его пребывания: леди N решает в гостиной привести детей на новогодний праздник; показано, как она уходит, // поднимается по лестнице, // открывает дверь в детскую, // будит детей и т.д. Все эти события разделяет скачок кинокамеры. В принципе Гомер так же наблюдает за Пенелопой, направляющейся в кладовую, чтобы принести лук Одиссея для состязания женихов:
Вверх по ступеням высоким поспешно взошла Пенелопа; Мягкоодутлой рукою искусственно выгнутый медный Ключ с рукоятью из кости слоновой доставши, царица В дальнюю ту кладовую пошла (и рабыни за нею). Где Одиссеевы все драгоценности были хранимы: Золото, медь и железная утварь чудесной работы. Там находился и тугосгибаемый лук. и набитый Множеством стрел бедоносных колчан.
Близко к дверям запертым кладовой подошел. Пенелопа Стала на гладкий дубовый порог (по снуру обтесавши Брус. тот порог там искусно уладил строитель, дверные Притолки в нем утвердил и на притолки створы навесил) ; С скважины снявши замочной ее покрывавшую кожу. Ключ свой вложила царица в замок; отодвинув задвижку. Дверь отперла; завизжали на петлях заржавевших створы Двери блестящей; как дико мычит выгоняемый на луг Бык круторогий — так дико тяжелые створы визжали. Взлезши на гладкую полку (на ней же ларцы с благовонной Были одеждой). царица, поднявшись на цыпочки, руку Снять Одиссеев с гвоздя ненатянутый лук протянула; Бережно был он обвернут блестящим чехлом; и. доставши Лук. на колена свои положила его Пенелопа; Сев с ним и вынув его из чехла, зарыдала, и долго. Долго рыдала она; насытившись плачем. Медленным шагом пошла к женихам многобуйным в собранье. Лук Одиссеев. сгибаемый туго. неся и великий Тул, медноострыми, быстросмертельными полный стрелами. Следом за ней принесен был рабынями ящик с запасом Меди. железа и с разною утварью бранной. Царица. В ту палату вступив, где ее женихи пировали. Подле столба, потолок там высокий державшего, стала. Щеки закрывши свои головным покрывалом блестящим; Справа и слева почтительно стали служанки. И. слово К буйным своим женихам обратив. Пенелопа сказала...[3]
При этом мы переносимся на высокую лестницу дома // перед входом в кладовую и т.д. и вместе с поэтом дискретно воспринимаем тщательно изображенные эпизоды — важные моменты всего действия. В этих перенесениях Магомета к горе заключается аналогия, благодаря которой можно говорить о родстве фильма и эпоса. Однако сразу же добавим, что два момента прежде всего делают каждую языковую репрезентацию не сравненно богаче любого немого фильма. Первый — это короткие, замкнутые единицы отдельных предложений и их потенциальное содержание, второй — средство выражения синтаксических связей — анафора. Все же еще ненадолго остановимся на механизме подвижного образа и продолжим сравнение средств его выражения.
В фильме тщательно выбирается смена крупностей. Согласно Беле Балажу, при съемке людей пользуются тремя крупностями, делают крупный, средний и общий планы. На крупном плане часто изображается только лицо на фоне картины экспрессивного события, на среднем — человек в полный рост в достаточно широко охваченном поле действия, а на общем — пейзаж или группа людей, в которой герой почти полностью растворяется или помещается на заднем плане. Непрерывные переходы и скачкообразные чередования в этой (конечно, лишь грубо обрисованной) области крупностей относятся к числу излюбленных изобразительных приемов фильма.
По многим причинам трудно определить в общих чертах и кратко изложить, как обстоит дело с языковой репрезентацией, высвечивающей то контуры предмета, то снова детали. Для изучения типичных примеров сперва вновь следовало бы поучиться на примере эпоса и сказок. Если сначала задаются рамки, как это нередко наблюдается в прозрачной повествовательной структуре детской сказки, то потом для дальнейших вкраплений более не требуется детальных языковых средств выражения синтаксических связей. Гомер, как я понял из работы Ф.Трояна, преимущественно переносит изображение рамок происходящего на совет богов на Олимпе и после этого с удовольствием погружается в описание деталей, поскольку исход уже известен. Цезарь продолжает общее описание бедственного положения своего войска во враждебной стране словами «veni, vidi, vici». Ситуацию в «Певце» Гёте передает четырьмя несвязанными предложениями в четырех строках: «Der Kцnig sprachs, der Page lief, der Knabe kam, der Kцnig rief». Во всех этих случаях вполне достаточно последовательности сцен и не требуется никаких других средств выражения синтаксических связей.
Искусные скачки кинокамеры фиксируют героев и неожиданно меняют их окружающую среду, свидание на улице, пара на танцах, в доме, или господин во фраке прыгает в море в Бостоне и после шторма вылезает в купальнике на берег в Сорренто. Нам важно обратить внимание на возвращение действующего лица и мимоходом отметить, как разнообразно и свободно языковая репрезентация употребляет материальные средства выражения синтаксических связей повтора при помощи несущих семантическую нагрузку назывных слов (или иногда также и указательных частиц): Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков... Цепочка без соединительных слов. Не упоминаются объективно неизбежные перерывы между рождениями (так же, впрочем, как и жены). Все это представляет интерес для истории языка лишь в той мере, как это указывалось ранее. О повторах, способных заменяться анафорой, речь еще впереди.
3. Мечта и действительность в кинематографе и в языке
Теперь кое о чем другом. На экране иногда практикуется введение воспоминаний и фантастических событий, занимающих воображение актера (хотя это часто выглядит довольно искусственно); при этом также происходит предварительно указанная и маркированная смена эпизодов. С технической точки зрения кадры прошлого могут вторгаться в настоящее. Например, в парижском фильме о Дон Кихоте игра воображения героя передавалась контурами фигур, выходящих из переполненного книгами кабинета и из фолиантов. Тем самым в фильме иногда приходится (в определенных пределах) перемещать гору к Магомету, что от природы свойственно драме. Для этой цели в фильме создается основной эпизод, позволяющий цитировать отсутствующее, прозрачное, как призрак, так как его нужно отличить от места действия (на сцене). Воображаемые образы, такие, как дикое войско или другие привидения, воспроизводятся в масштабе, несовместимом со сценой. Одним словом, они представляют собой некий образ в образе, насколько это удается освоить фильму. В этом отношении кинематограф не достиг значительных успехов, и можно утверждать, что в нем нет очень важного и характерного для драматической речи элемента — цитирования отсутствующего в настоящем. Там нет самого механизма презентации, прекрасно описанного Энгелем применительно к драматическому действию[4].
Далее: для языковой репрезентации (например, в эпосе) типичны вставки. Язык обладает адекватными средствами маркировать их относительно меньшую существенность. В фильме же они, напротив, приобретают характер особой выделенности. Во многих отношениях кинотехника обычно напоминает скачки и дискретность снов. Во время не очень глубокого сна постоянно при каждом импульсе к ретроспективе воспоминаний или перспективе желаний наступает полное отторжение от настоящего, то есть полная смена сцен. Или более обобщенно: отход от базовой ситуации, к которой спящий, как правило, больше не возвращается[5]. Здесь снова наблюдается значительное отличие механизмов соединения в языковом эпосе и в фильме.
В этом отношении фильм с его столь же полными перенесениями во многом подобен режиссуре снов в сознании героя, редуцированной по сравнению с режиссурой бодрствования. Режиссура бодрствующего сознания, управляющая комплексными идеями и представлениями по всем правилам искусства, обнаруживается в сложных структурах главных и придаточных предложений, чередовании нарративной, прямой и косвенной речи и т.д. Но здесь мы остановимся на более грубых вставках. Например, в процитированном отрывке о путешествии Пенелопы Гомер может вставить резко выделяющуюся историю о луке Одиссея. Благодаря специфическим средствам выражения синтаксических связей языковая репрезентация позволяет ему мобилизовать высшие достижения режиссуры бодрствования нашего воображения. В начале эпизода в качестве знака экспозиции вполне достаточно словечка однажды, которому нет места в фильме и которое не может сохранить как общий индекс вставки глубокий сон. Рассказчику Гомеру (а, возможно, также и Пенелопе) уже при первом упоминании лука приходит на ум его история:
«Они же встретились однажды друг с другом в Мессене. где нужно Обоим дом посетить Ортилоха разумного было. Там Тяжбу с гражданами вел Одиссей».
Как чудесна эта история из древнейших времен! В конце этого эпизода к базовой ситуации возвращает уже процитированное предложение: «Когда в тот покой пришла великая повелительница» и т.д.
Тема «Фильм и эпос» необыкновенно важна для теории языка. Еще раз подчеркнем: они оба щедро используют транспозиции зрителя или слушателя; однако следует тут же добавить: в целом язык значительно превосходит фильм благодаря указательным знакам вообще, благодаря дейксису к воображаемому и в особенности благодаря анафорическому употреблению этих указательных знаков.
4. Богатство и бедность анафорического указания
Для того чтобы получить ясное представление о процессе, дистрибуции и удельном весе анафоры как средства выражения синтаксических связей в обычных прозаических текстах, я произвел статистические расчеты и изобразил диаграммы анафорических слов, разбросанных в тексте, которые будут опубликованы в другом месте. У великих знатоков немецкого языка встречаются как на редкость анафорически бедные тексты (например, у Гете и Ницше), так и очень насыщенные анафорами стихи и проза (у Шиллера). Показательно, что у одного и того же автора в одном и том же произведении наблюдаются необыкновенно сильные колебания в употреблении анафор. Анафорические ссылки очень перегружают тексты обычного канцелярского языка. На их примере можно продемонстрировать, куда привело бы положение, при котором в языке не действовал бы тот же самый принцип (разумеется, с соответствующими изменениями), сформулированный одним серьезным художником для своего механизма репрезентации и наводящий на размышления: рисовать — значит опускать. Хорошо говорить также означает быть экономным в выборе языковых средств и многое оставлять слушателю — прежде всего далеко простирающуюся свободу проявления собственного попутно созидающего мышления. Строго говоря, анафорические указательные знаки определенным образом регулируют это конструктивное параллельное мышление слушателя, и именно к ним более всего подходит греческий тезис о соразмерности.
[1] Легко объяснимы примеры типа «фальшивая борода» в отличие от настоящей или «фальшивые деньги», «лжедмитрий» и т.п.
[2] См.: Erdmann B., Dodge R. Psychologische Untersuchungen ьber das Lesen aufexperimenteller Grundlage. Halle/Saale: Niemeyer, 1898.
[3] Русск, перев. В. А. Жуковского (XXI). — Прим. ред.
[4] См.: Buhler К. Ausdnickstheorie, S. 44 ff. Ср. также: Winkler E. Das dichterische Kunstwerk. — «Kultur und Sprache», Bd. 1П, 1924. Тезис о том, что и как презентирует драматическая речь (если так можно выразиться), по–видимому, впервые сформулировал Лессинг, а вслед за ним Гёте. Эти сведения я почерпнул из прекрасной венской диссертации, вдохновленной идеями Арнольда (См.: Winkel M. Die Exposition des Dramas. Dissertation. Wien, 1934). Энгель воспользовался этим тезисом в теории выразительных возможностей тела актера. Мы отмечаем здесь важную черту драматической презентации лишь мимоходом. Подробнее об этом см.: Hirt E. Das Formgesetz der epischen, dramatischen und lyrischen Dichtung. Leipzig: Teubner, 1923. К сожалению, эта книга мне пока недоступна. При продолжении исследований по теории экспрессии (в частности, при изучении искусства кино) нам чрезвычайно важен этот факт сам по себе.
[5] В данном случае нас не интересует то, что в сновидении может произойти и прямо противоположное явление — неосвобождение от ситуации или вечное возвращение.
|






